Значение покаяния не в признании себя грешником – это было бы слишком просто, а в изменении образа жизни, приводящего ко греху.
архиепископ Иоанн Шаховской
св. прав. Иоанн (Кронштадский)
О Таинстве Покаяния
игумен Петр (Мещеринов)
Сегодня мы коснемся очень важной темы — Таинства Покаяния. Важной, потому что говорить о покаянии — это касаться тайников человеческой души, ее отношения к самой себе, отношений с Богом, с другими людьми, с миром, в котором она живет. Разговор о покаянии не может не затронуть темы греха, борьбы с ним; наконец, в покаянии человек познаёт, что есть любовь Божия. Всё это — вещи очень глубокие и тонкие; поэтому мы попытаемся лишь обозначить их, указать на них, с тем чтобы каждый из нас сам определил в себе ту интенсивность и тот этап религиозной жизни, на котором он находится.
Сначала дадим определение. Покаяние есть Таинство, в котором христианин, при раскаянии в своих грехах и исповеди их перед священником, получает через него от Бога прощение и разрешение грехов. Мы сразу видим, что для совершения Таинства нужны две вещи:
1) наша исповедь и
2) власть от Бога прощать грехи.
О втором мы читаем в Евангелии от Иоанна: Примите Духа Святаго, — сказал Господь Апостолам. — Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся (Ин. 20:22-23); а о первом, т. е. о необходимости исповеди, — в Первом послании Иоанна: Если исповедуем грехи наши, то Он,будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды (1Ин. 1:9).
Тут сразу можно дать ответ на часто задаваемый вопрос: зачем нужно идти к священнику и говорить о грехах, недостаточно разве покаяться внутри, перед Богом? Мы видим, что нет, недостаточно. Господь дал власть прощения грехов не мысленному исповеданию человека самого по себе, а особо уполномоченным на это людям — Апостолам и их преемникам, т. е. епископам и пресвитерам; а для того чтобы они, собственно говоря, узнали те грехи, которые они от имени Господа имеют власть прощать, им нужно их сообщить, сказать, назвать эти грехи, т. е. исповедать их и засвидетельствовать перед священнослужителем свое раскаяние в грехах. Как мы уже говорили, любое Таинство, помимо прочего, созидает Церковь. Это касается и Таинства Покаяния. Грех разлучает человека с Богом и Его Церковью; в Таинстве Покаяния происходит прощение грехов и воссоединение человека с Церковью. Поэтому только в церковном акте, а не внутренне-индивидуально совершается избавление человека от греха, в котором он кается. Вне Церкви, к сожалению, даже если человек и жалеет, сокрушается о своих дурных делах, — разрешения от них ему взять неоткуда.
Сразу перед нами встает вопрос: что же такое грех? Чем он страшен? Выяснив это, мы поймем, что, собственно, происходит в Таинстве.
Грех есть беззаконие, — определяет ап. Иоанн Богослов (1 Ин. 3, 4), т. е. нарушение воли Божией. Это нужно правильно понимать. Нарушить волю Божию — это не начальника на работе ослушаться. Воля Божия не есть некая директива, указ, внешне и формально принуждающий нас к чему-либо. Воля Божия — это, можно сказать, желание и действие Божие, то, на чем держится мир, все бытие. И мы знаем из Писания, что она — не какая-то равнодушная всемогущая сила, но – благая, угодная и совершенная (Рим. 12:2). Если мы нашими делами, мыслями, чувствами соответствуем воле Божией, творим ее, любим ее, ищем ее — мы тем самым приобщаемся благу, добру, совершенству и пребываем в богоустановленном чине и порядке, т. е. соответствуем Богу и божественной жизни — со всеми вытекающими для нас последствиями, т. е. блаженством, бессмертием, а главное — богообщением. Если же мы волю Божию нарушаем (а выражена она для нас, напомню, в домостроительстве нашего спасения, в устроении Церкви, а главным образом — в заповедях Божиих, открываемых нам Св. Писанием), — то тем самым мы идем против Божьего порядка мироустройства, т. е. разрушаем, портим и извращаем самих себя и мир. И это не какие-то мысленные выкладки: это объективное положение вещей. Ап. Иаков пишет: сделанный грех рождает смерть (Иак. 1:15), т. е. разрушение, уничтожение по причине отдаления от абсолютного Добра, Правды, Любви и Порядка – от Бога.
Сделанный грех нарушает законы бытия — духовные законы прежде всего; и следовательно, для человека он влечет за собою неизбежную ответственность. Если человек выйдет из окна 15 этажа, то он упадет вниз — таковы законы физического мира; совершенно несущественно, что человек думает и считает: может быть, он решил, что пройдет по воздуху до соседнего дома… Так и в духовной сфере: если человек идет против мироустройства Божия, то – вменяет он себе в грех это противление Богу или нет — он пожинает определенные последствия: для гордости — отступление благодати и предание бесам, для блуда — разрушение души, нарушение целости человека и проч.
Конечно, грехи бывают разные, есть грех не к смерти (см. 1 Ин. 5, 16), но любой грех, коль скоро он совершён, извращает, меняет в худшую сторону Божий порядок, разлучает человека от Бога в той или иной степени и влечет за собою последствия. Но воистину всякое человеческое несовершенство и немощь превосходит любовь Божия; Господь в Своей Церкви дал нам великое и удивительное Таинство Покаяния, и теперь, если человек осознает свой грех, кается, исповедует его и получает в Церкви разрешение от него, то мало того, что восстанавливается общение между Богом и человеком, душа исцеляется и получает благодатные силы на борьбу с грехом, но и сам грех изглаживается из бытия. В этом объективное действие Таинства Покаяния: грех уничтожается благодатью Божией.
Но покаяние — это не только Таинство. Покаяние — это прежде всего внутреннее действие, внутренняя работа, которая в конечном итоге приводит человека к Таинству. И для того чтобы Таинством, так скажем, правильно воспользоваться, получить от него то, что хочет нам дать Церковь, мы с вами должны понять, что такое собственно покаяние как внутреннее движение человеческой души. Здесь можно различить, во-первых, покаяние как вхождение (или возвращение) в Церковь от греховной жизни и, во-вторых, покаяние как делание человека уже церковного, т. е. нравственное усилие души в борьбе с грехом и в понуждении себя на добро.
1. Покаяние как вхождение в Церковь. Евангельская проповедь началась не чем иным, как призывом к покаянию. Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие (Мк. 1:15), — это первое, что сказал Господь, выйдя на проповедь. До этого к покаянию призывал Иоанн Предтеча и даже крестил в покаяние, т. е. совершал акт омовения водою в знак очищения от исповеданных ему грехов. Апостольская, т. е. церковная, проповедь также началась с увещевания о покаянии. После сошествия на Апостолов Святого Духа в первой же своей проповеди ап. Петр сказал: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа (Деян. 2:38). Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши (Деян. 3:19). В Св. Писании покаяние полагается необходимым условием для обращения к Богу и для спасения. Господь говорит: если не покаетесь, все так же (т. е., по контексту, не будучи грешнее других) погибнете (Лк. 13:3). Покаяние радует Бога и угодно Ему: так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии (Лк. 15:7).
О чем здесь идет речь? Греческое слово «метанойя», которое стоит в оригинале во всех процитированных отрывках Нового Завета, означает буквально «передумать», а смысл этого понятия — «изменение сознания». Этим словом передается нечто большее, чем просто процесс умственной деятельности, здесь подразумевается намеренное «обращение», в котором участвуют сердце, воля и сознание; это «изменение образа мыслей, приводящее к изменению поведения», причем подразумевается здесь аспект именно религиозный — обращение от греха и лжи к Богу, истине и добру. Покаяние в собственном смысле слова, мы видим, есть решительная перемена всей своей жизни, осознание своих грехов и оставление их, обращение к Богу и устроение своей жизни на новых началах. Такое покаяние предполагает определенное состояние души, — когда человек осознает и чувствует свою недостаточность без Бога, падшесть, опасность от греховного состояния, пленения себя грехом, «болезни» им — то, что свт. Феофан называет «крайней бедой без Бога»; вместе с тем — нежелание больше жить так, нужду во Враче, жажду исцеления души.
Когда на такую почву, на такое настроение души падает благодатное семя евангельской проповеди, тогда человек обращается к Богу, — не мыслью только принимает идею Бога, а, так сказать, «впускает» Его в свою личную жизнь, в самую сердцевину ее, — и через принятие Таинства Крещения или, если оно было недейственно, профанировано и попрано последующей греховной жизнью, — через Таинство Покаяния самим делом воссоединяется с Богом и меняет свою жизнь — с греховной на христианскую. И это — исконный смысл понятия «покаяние»: благодатное изменение сознания и перемена жизни. В наше время многие люди, крещенные в детстве, но не воспитанные как христиане, входят в Церковь через покаяние; и в этом смысле оно называется «вторым Крещением» или «восстановлением, возобновлением Крещения»; в Древней Церкви через покаяние, через публичную исповедь и строгие епитимии с Церковью воссоединялись христиане, впавшие в тяжелые, смертные грехи.
2. Покаяние как нравственное делание. Но вот мы с вами вошли в Церковь — через Крещение или через Покаяние. Как должна теперь строиться наша жизнь? Отринув грех и соединившись с Богом, мы получили от Него в Таинствах благодатные дары, и теперь наша задача — сохранить, возрастить и приумножить эти дары. Для этого мы должны употреблять определенный внутренний труд, свободное и сознательное нравственное усилие. Об этом говорит Господь: «Царство Небесное силою берется (нудится), и употребляющие усилие восхищают (приобретают) его» (Мф. 11, 12). Усилие это должно быть ровным, постоянным, непрекращающимся, и мы постоянно должны возрастать во Христе, восходить от силы в силу.
Но это идеал. В жизни такого не бывает. Мы немощны, неспособны на такое постоянство, на всегдашнее внутреннее напряжение; мы стяжали многие греховные навыки, привычки, которые чуть ли не срослись с нашей природой. Устроение внешней жизни совершенно нехристианское, противное благочестивой жизни; да и диавол рядом со своими соблазнами, искушениями, возбуждениями страстей. В этих условиях мы часто рассеиваемся, помрачаемся, изнемогаем, ослабеваем — и в итоге допускаем в нашу жизнь грехи. Правда, христиане все же блюдут себя с особым усилием от грехов смертных (хотя и они тоже, по разным обстоятельствам, бывают); но и так называемые грехи не к смерти (см. 1 Ин. 5, 16), хоть и именуются иногда «повседневными», все равно остаются грехами, со всеми их действиями — разлучением нас от Бога прежде всего. Кроме того, под массой грехов наша совесть, которой принадлежит главная роль в соблюдении нашей внутренней чистоты, начинает замутняться, изнемогать, терять свою силу.
И тут снова любовь Божия готова нас всякий раз принимать в Таинстве Покаяния, прощать грехи, очищать и восстанавливать совесть, и покаяние — как делание, так и Таинство — становится для нас, наряду с основным своим значением, осознанием и прощением грехов, обращением к Богу и Церкви через изменение сознания и жизни, также и восполнителем наших недостаточных усилий на путях духовной жизни. И это вторая сторона покаяния, очень для нас существенная. И в связи с этим остановимся на том, как нам каяться, в чем, как это всё должно совершаться внутри нас — и как потом всё это должно выноситься на исповедь. Ибо всегда нашему участию в Таинстве Покаяния, приступаем ли мы к нему впервые, как ко второму Крещению, или прибегаем к нему регулярно как уже к церковно-нравственному деланию, — предшествует некая внутренняя покаянная работа; вот о ней и поговорим.
И первое здесь — внимание к себе. Нужно сказать, что это — один из первых даров благодати Божией. Человек безблагодатный не может взглянуть внутрь себя, его как бы выталкивает какая-то сила. Проснувшись утром, он тут же обращается вовне, начинает строить планы, мечтает, ему необходимо общение или информационный фон; он включает радио, телевизор, проводит весь день в суете, как бы вне себя; приходя с работы, он тут же опять включает телевизор и засыпает под него. Оставь такого человека одного, без радио, без телевизора, без пустого общения — он почувствует ужасную муку и дискомфорт. Благодать же Божия первое, что делает, — возвращает человека внутрь себя.
Итак, при помощи внимания станем рассматривать свой внутренний мир. Прежде всего нам станут явны грехи, совершаемые делом: об этом нам ясно возвестит совесть, укрепляемая благодатью и просвещаемая Словом Божиим. За делами мы увидим с вами наши слова, а за ними — помыслы. Помыслов у нас больше, чем слов и дел, поэтому в них сложнее разобраться совести; но обученное внутреннее чувство по какому-то «вкусу» может распознать и качество помыслов.
Но помыслы — это тоже некоторое производное; их порождают сердечные расположения, а те, в свою очередь, зависят от очень глубокой вещи, почти скрытой от нашего сознания, — от духа жизни, неких основ, определяющих все наше существование как нравственных личностей, — от глубин сердца, говоря святоотеческим языком. Повторю, что легче всего распознать нам качество наших дел, труднее — помыслов, а еще труднее — этих сердечных основ нашей жизни. Но распознавать это необходимо, и это то, чему, собственно, и нужно учиться христианину, — это наука внутренней жизни. Цель здесь — отделить себя, т. е. богоподобную личность, свое, данное от Бога устроение, — от греховных навыков, страстей, всего, что портит, уродует, бесчестит нас, — и удалить из души все это, с Божьею помощью.
Здесь открывается поприще борьбы с грехом. Легче всего (хотя и это бывает трудно) не допустить грех делом; гораздо труднее — не грешить в помыслах и чувствах; и чрезвычайно трудно — переменить (т. е. изменить, отменить) страсти и греховные сердечные расположения (что одно и то же). Как же нам это делать? Всякий повод для дел нужно отсекать, а именно: не ставить себя в ситуацию, ведущую к греховному делу, прогнозировать ситуации, в которых мы можем оказаться, заранее, с тем чтобы обезопасить себя от соблазнов, и проч. Здесь потребны рассуждения, благорассмотрение и внимание. Помыслам нужно противостоять, во-первых, невниманием к ним, молитвою, а также противопомыслами, противочувствами — т. е. противопоставлять греху добро, взращивая в себе противоположные греху добродетели. Наконец, страсти: борьба с ними — это настоящий крест, здесь нужны терпение и смирение, а больше всего — молитва, упование на Бога и «неотчаяние». Это бывает на всю жизнь мучение, в зависимости от стяжанной силы страстей до обращения к Богу.
Борьба с грехом — вещь многосложная; здесь возможны как победы, так и поражения, когда нами все же допущен грех — делом, словом, чувством, мыслью. Когда это случится, не нужно впадать в смущение, отчаяние и проч., нужно сразу прибегнуть к покаянию. И, собственно, мы возвращаемся к нашей теме — покаянию как благодатному восполнению наших недостаточных духовных усилий.
Покаяние не есть нечто аморфное, просто как бы некое смятение и укорение души. Не есть оно и некоторая внутренняя истерика. Покаяние имеет свой внутренний чин и порядок, его очень хорошо определяет свт. Феофан. Он пишет, что покаяние — это:
1) осознание своего греха пред Богом;
2) укорение себя в этом грехе с полным исповеданием вины, без перекладывания ответственности на других людей или на обстоятельства;
3) решимость оставить грех, возненавидеть его, не возвращаться к нему, не давать ему места в себе;
4) молитва к Богу о прощении греха, до умирения духа.
Здесь речь идет об акте внутреннего покаяния, не о собственно Таинстве. Давайте разберем это определение свт. Феофана.
1. Осознание греха перед Богом, т. е. не просто: что-то я не то сделал, а именно перед Богом. Это предполагает, во-первых, веру, а во-вторых, обязательно личное отношение с Богом, связь с Ним, богообщение. И это осознание — не протоколирование какого-то формального нарушения, а живое чувство того, что то, что я сделал, неприятно Богу моему, я этим огорчил, обидел, оскорбил Бога. Покаяние — не копание в себе и не холодный самоотчет, а живое ощущение, что грех разлучил меня с Богом. У кого такого чувства нет, тот в опасности формализовать свою внутреннюю жизнь; нужно взыскать его.
2. Укорение себя, т. е. вменение себе ответственности за грех. Очень часто мы склонны перекладывать ответственность на обстоятельства, на других людей, на бесов, а себя оправдывать; а важно осознать, что именно мы не правы перед Богом.
3. Нужно положить решение сопротивляться греху, не возвращаться к нему, и возыметь решимость к этому. Без этого покаяние не будет покаянием, а превратится просто в какую-то лицемерную констатацию факта. Нужно обязательно настроить себя на сопротивление греху. Как показывает опыт, у всех нас особенно хромает именно этот пункт.
4. Молиться Богу о прощении, потому что своими силами мы ничего не можем, а только Господь прощает нас, умиряет наше сердце, возвращает нам Себя и утешает нас.
Вот такое покаянное движение души должно проходить всякий раз, когда совесть обличает нас в грехе — пусть хоть в самом малом. Для «мелких» грехов достаточно бывает этого внутреннего покаяния, грехи же существенные требуют уже выноса их на исповедь, потому что сердце не умиряется одним лишь прохождением указанного покаянного внутреннего делания.
Тут нужно опять вернуться к тому, что есть грех, с точки зрения градации. Есть грехи к смерти, смертные грехи. К ним относятся, в числе прочих, два рода грехов — блудные грехи и грехи гордости. Дела блуда всем понятны, а дела гордости — это, по отношению к Богу, ожесточенное богопротивление, а по отношению к людям — жестокость и немилосердие. Это самые распространенные грехи. Блуд лишает нас нашего человеческого достоинства, нашей целости, а дела гордости решительно отвращают от нас смиренного, милосердного и доброго Бога, как совершенно противоположные Ему.
Это грехи объективные, они всегда производят свое действие — разлучают нас от Бога независимо от того, что мы субъективно об этом думаем. Прочие нужно исповедывать всегда; слова, когда они вошли в разряд дел, например, если мы кого-то словом обидели. Что касается помыслов, то для них бывает достаточно того акта внутреннего покаяния, о котором сказано выше; помысл отошел, и его не надо вспоминать. Но если он вспоминается сам, если он назойлив, не отходит и ранит совесть, то нужно его исповедывать, но стараться при этом проследить его причину и исповедывать не сам помысл, например: «в 19.42, 20.14 и 21.28 пришел помысл такой-то», а: «согрешаю нечистым расположением сердца, от чего происходят назойливые помыслы».
Обычно внимательно живущие христиане более или менее свободны от явных греховных дел, и борьба с грехом переносится больше на помыслы, а исповедь, соответственно, больше становится откровением помыслов; это хорошо для очищения совести и получения благодатной помощи для борьбы с грехом. Но здесь кроется и некоторая опасность формализации исповеди и выхода за рамки собственно Таинства Покаяния: это вопрос скорее духовного руководства, чем Таинства. Общее правило такое: надо исповедаться, когда есть потребность, и исповедывать то, в чем укоряет совесть, будь то дело, слово, мысль или сердечное расположение. Исповедоваться всегда нужно полно, не утаивая, не смущаясь и не стыдясь ложным стыдом: «Что обо мне батюшка подумает?» Для батюшки это не новость, он все это слышал сотни раз, и священник всегда радуется вместе со Христом, когда человек кается в своих грехах, и наоборот, чувствует к искренно кающемуся любовь, расположение и большое уважение, потому что иногда нужны мужество и воля, чтобы в своих грехах покаяться. Грехи нужно называть так, чтобы исповедающий понял, о чем речь, но в подробности, особенно плотских грехов, входить не нужно. Хорошо испытывать совесть заранее и записать все, потому что человек может на исповеди растеряться, смутиться и что-то забыть.
Теперь нужно отметить несколько опасностей, которые могут нам встретиться в деле покаяния.
1. Это формализация исповеди, когда исповедаться вроде нужно, а вроде и нечего, или когда мы превращаем исповедь в сухой «отчет о проделанной работе». Здесь нужно помнить, что Таинство Исповеди, как мы уже сказали, — конечная точка внутреннего процесса покаяния и имеет свое значение только под условием его. То есть, если мы исповедуемся без покаяния, без этих четырех внутренних деланий, о которых мы сказали, мы профанируем Таинство, и оно может быть нам в суд и в осуждение. Всегда, идя на исповедь, мы должны, хоть в слабой мере, насколько для нас возможно, именно покаяться в грехах, осознать их пред Богом, укорить себя, решить воздерживаться от них, с молитвой к Богу. За этим нужно тщательно следить.
Также не бывает, чтобы человеку было «нечего» исповедовать: если человек ведет внимательную жизнь, если он следит за чистотою своей совести, то он каждый день заметит в себе то, что нуждается в очищении, потому что внутренняя брань с грехом не прекращается в нас ни на час. Если не дела и слова, то помыслы и чувства всегда требуют контроля, исповеди и благодатного исправления. Есть также опасность формализации, когда человек не видит своих действительных грехов, а вменяет себе грехи мнимые или маловажные: из мухи делает слона и из слона — муху. Как сказал Господь: «комара оцеживает, верблюда поглощает» (см. Мф. 23, 24). Человек может каяться и угрызать себя, например, что он съел в пост печенье с непостным ингредиентом, сухим молоком, или что он не все молитвы прочитал, — и не замечать, что он годами отравляет жизнь своим ближним. Нужно всегда настраивать совесть свою по Евангелию, чтобы видеть действительные грехи, а не формализовывать духовную жизнь.
2. Привыкание к исповеди и обесценивание ее: «Ничего, что согрешу, неважно: есть исповедь, покаюсь». Это манипуляция Таинством, потребительское к нему отношение. Такие игры с Богом всегда очень плохо кончаются: Бог строго наказывает такое настроение души. От этого нужно беречься и всегда быть честным с Богом и с своею совестью.
3. Разочарование в исповеди: «Вот, я годами хожу, каюсь, а страсть не отходит, грехи одни ите же». Здесь ошибка в нас, что мы не смогли определить свою меру: начитавшись аскетических книжек, мы решили, что за короткое время победим наши грехи и страсти. Но на это нужны десятилетия. Кроме того, Господь может промыслительно оставлять нам некоторые немощи и страсти, чтобы мы смирялись, не превозносились, не уповали на себя, чтобы искали Бога и с терпением взыскивали Его помощи, чтобы определилось наше постоянство в христианстве, то есть чтобы наши свобода и произволение постоянно выбирали Бога. Со временем страсти стихают, если не давать им пищи, иметь о них попечение и исповедывать их.
Поэтому никогда не надо отчаиваться, но даже если, к несчастью, произошло падение (хотя всеми силами нужно подвизаться, чтобы не допускать его!), вставать, каяться, опять прибегать к Таинству исповеди, подвизаться против греха и никогда не унывать и не отчаиваться. Надо настроиться не на год-два борьбы с ним, а лет на пятьдесят, тогда легче будет. «Семь раз (на дню) упадет праведник и встанет» (Притч. 24:16), – говорит Св. Писание. Любовь Божия открыта нам, покаяние всегда доступно, вот и надо всегда прибегать к нему с терпением и надеждой.
Теперь скажем несколько слов о епитимиях. Обычно, когда мы крупно согрешим, нам дают епитимию. Часто ее понимают как «заглаживание», «искупление», «уравновешивание» греха. Это совершенно неправильно. Грех в Таинстве прощается и становится как не-бывший, он изглаживается из бытия, его нет, он исчезает, заглаживать, искупать, собственно говоря, нечего. Но остаются последствия греха.
Если мы совершили грех делом, то это дело встраивается в ход вещей и часто годами отражается на нас. И самый здравый смысл, и Св. Писание в таком случае требуют, чтобы мы, если у нас есть к тому хоть малейшая возможность, исправили причиненное нами зло, например, загладили обиду, вернули украденное, а если это уже невозможно, особенно старались совершать добрые дела, противоположные тому, что мы натворили. Это будет деятельным покаянием.
Если речь идет о внутреннем человеке, то грех бывает нам прощен, а разрушительное действие его на душу, как бы по инерции, остается. Свт. Феофан удачно сравнивает грех с занозой: занозу вынули, ее уже нет, но осталась рана, и она болит, нуждается в лекарстве. Тогда предпринимаются определенные нравственные действия и упражнения в виде молитвы, чтения, поста или другого чего — для у врачевания этой раны. Это и есть епитимия. Но главный ее смысл — отлучение на какое-то время от Причастия. Здесь есть и элемент наказания, чтобы человек не думал легко о святыне, будто она, что бы он ни вытворял, ему доступна; но главным образом — нравственно-врачевательный смысл: как больной после операции нуждается в заживлении ран, а потом возвращается к обычному образу жизни, так и покаявшийся грешник посредством благочестивых упражнений приводит душу в порядок, а потом допускается к Причастию.
Вот три составные епитимий:
1) отлучение на время от Причастия — время устанавливается индивидуально, сообразовываясь с церковными канонами и ситуацией;
2) исправление содеянного, по возможности и
3) усиленные против обычного благочестивые занятия: молитва, чтение и проч.
Все это предпринимается в нравственных целях, чтобы помочь процессу покаяния. Опасно, когда епитимия формализуются — так часто бывает; плохо также, когда ими пренебрегают, потому что они — все же важная часть процесса покаяния. Если мы на исповеди получили епитимию — будем стараться ее точно исполнить; душа получит большую пользу. Если она нам не по силам, нужно сразу сказать об этом священнику и совместно с ним определить ту меру, которую мы можем понести. Здесь нужно также быть внимательным, чтобы не «напороться» на крайности.
Вот кратко и фрагментарно мы затронули основные темы, связанные с Покаянием: Таинство это прощает нам грехи, воссоединяет нас с Церковью, очищает нас, как новым Крещением; оно, будучи регулярно нами воспринимаемо, восполняет недостаточность наших духовных усилий и дает нам благодатную помощь в борьбе с грехом; участию в Таинстве обязательно должен предшествовать акт внутреннего покаяния, состоящий в осознании греха пред Богом, укорении в нем себя, решимости не возвращаться к нему и сердечного обращения к Богу. И остался у нас еще один важный вопрос, связанный именно с внутренним покаянием, а именно: с каким настроением оно должно совершаться и каково место покаяния в духовной жизни человека?
Важность этого вопроса заключается в том, что многие люди, столкнувшись с «околопокаянными» идеями, не могут их воспринять, отвращаются от них и не входят в Церковь. Идеи эти следующие: ты — ничтожество, жалкий грешник, урод, все в тебе — зло и грех, тебе приготовлены вечные муки, Страшный суд, ад, погибель; но у тебя есть, может быть, шанс всего этого избежать. Для этого нужно именно убедить себя, что я — грешное, уродливое, недостойнейшее существо, ни на что, кроме греха, не годное, — это называется «смирением» и «самоукорением», — и — каяться, каяться, каяться и только каяться всю жизнь.
Покаяние, с этой точки зрения, становится целью духовной жизни, единственным духовным занятием, ибо всего прочего мы в силу грешности недостойны, и сводится оно к рассмотрению себя исключительно с точки зрения греха, немощи и несовершенства: человек должен прийти к тому, что он достоин только наказания.
Эту точку зрения я не побоюсь назвать не-евангельской. Это какая-то аскетическая крайность. Это есть вырывание из контекста и придание самостоятельного и всецелого значения частностям, пусть и важнейшим, но частностям духовной жизни. «Есть сокрушение сердца правильное и полезное — к умилению его, и есть другое, беспорядочное и вредное — только к поражению»26. Это прп. Марк Подвижник говорит о покаянии: бывает, что оно приносит пользу, а бывает и вред.
Дело в том, что вышеприведенная точка зрения не учитывает одной существеннейшей вещи. Да, человек сам по себе действительно грешен и немощен; да, необходимы в христианской жизни и смирение, и самоукорение. Сам Господь сказал: унижающий себя возвысится (Лк. 18:14). Но все зависит от того, в каком контексте мы воспринимаем это, что мы ставим во главу угла. Главное — это не человеческие грехи и немощи сами по себе; главное — и первое, и самое важное — то, что мы прежде всего — члены Церкви, члены Тела Христова, а потом уже — больные, немощные, бессильные, грешные, какие угодно. Главное, чтобы как и во всей духовной жизни, так и в покаянии, в центре его, на первом, месте был Он — а не какой-то там «я» со своею будто бы «супергреховностью». Ни в коем случае нельзя рассматривать жизнь человека только с позиции греха.
Вот мы сказали с вами, что покаяние предполагает не просто осознание греха, но именно греха пред Богом. И это очень важно. Все чувства, которые предлагает проходить нам покаянная практика: самоукорение, смирение, видение себя хуже всех, страх наказания и проч. — в истинном их смысле должны быть не просто человеческими чувствованиями, эмоциями, движениями души, сердца, ума, но чувствами именно религиозными, причем положительно-религиозными. То есть они истинны и правильны только тогда, когда совершаются в Боге, пред Ним, в контексте Его и Церкви совместным действием нашей души и благодати Божией — со-творчеством, синергией, но ни в коем случае не сами по себе.
Я обращаю на это ваше особое внимание, ибо здесь корень всех религиозных ошибок. Самоукорение — это не убеждать себя: я урод и ничтожество. Смирение — это не комплекс вины и собственной неполноценности, говоря языком психологии. Покаяние — это не самоугрызение, вовсе нет. Повторю, это положительные религиозные чувства, то есть, они значат: есть Бог, Он — Любовь и Милость; Он — мой Спаситель, именно мой, все добро и благо — все Его. Мое — действительно, страсти и немощи; но несмотря на них, Он дал мне такой вот дар в Церкви — жить Им, Его добром, благом и совершенством; и я — член Тела Его – живу Им и не хочу жить собою, своими страстями. И ради именно этого, и только этого — жить Им, я делаю все: и каюсь, и молюсь, и воздерживаюсь, и борюсь с грехом, и проч., что предписывает Церковь, ради того, чтобы взыскать Христа, быть с Ним, чтобы Его благодатью восполнить свою немощь. А не ради того, чтобы просто констатировать ежечасно, что я — грешник, не для того, чтобы «изъесть» себя. Вот что происходит в покаянии.
И смирение — это чувство, что Бог как меня любит безмерно, так и всех других, и мы одинаковы пред Ним — одинаково немощны и больны, и я, может быть, больше других; но Он нас всех принимает, исцеляет, питает, поддерживает, утешает, вразумляет с великою любовью и милостью, как мать дитя; и перед Ним всё наше, даже и что-то доброе и хорошее — ничто, ноль, пыль и прах. Вот это смирение и самоукорение. И все эти покаянные чувства должны приносить в душу человека не уныние и отчаяние, не комплекс неполноценности, что всегда бывает, когда мы лишаем покаяние церковного контекста, а — в силу именно того, что это духовные движения души — благодать Святого Духа. Это не восторги, не розовая экзальтация, не кровяное разгорячение, — благодать Святого Духа свидетельствуется в душе тонким, мирным, радостным, смиренным, тихим, прохладным, истинно духовным чувством, дающим человеку мир, любовь и свободу — и как бы «собирающим» человека в нечто целое, в то, чем он должен быть по замыслу Божию. И это, кстати, критерий правильности любого духовного делания, как об этом пишет прп. Макарий Великий.
Если то, что мы считаем покаянием, приносит нам в душу не Духа Святого, а внутреннюю истерику, отчаяние, чувство вины, самоедство, смущение, тяжесть — значит, мы неправильно понимаем христианство и внутреннее делание. Это относится и ко всем нашим духовным действиям: послушанию, молитве, хождению в храм, добрым делам и проч.
Притом надо сказать, что покаяние не охватывает всего внутреннего делания, оно — часть его, пусть важнейшая, постоянная, никогда не прекращающаяся, но не всецелая. Покаяние невозможно без живой веры в Бога, без благодарения Бога и без многого другого. Иногда утверждают, что покаяние — цель духовной жизни. Правда, покаянием должно быть растворено, по слову свт. Игнатия, всякое наше духовное делание, особенно молитва. Да и вся внутренняя жизнь как неотъемлемую часть, как некое обязательное условие должна включать в себя покаяние; но оно, как мы сказали, хоть и важнейшее, но средство. Цель же духовной жизни — богообщение, и оно, как пишет свт. Феофан, должно свидетельствоваться чувством. «Не на крыльях или не на ногах, но чувством приближаемся мы к Богу» (блж. Августин). И покаяние собственно и восстанавливает богообщение, восстанавливает это чувство: вот главное, что совершается в этом Таинстве, и вот его место в духовной жизни.
Святитель Феофан пишет, что чувство богообщения должно быть, пусть и в малой мере, но постоянным, и коль скоро оно не ощущается, нужно бить тревогу и искать его — в чем, собственно, и заключается смысл любого духовного делания. И это вовсе не то, что запрещают Св. Отцы — дерзновенно искать духовных утешений, молитвенной сладости, откровений, видений, ощущений, считая себя как бы достойными их. Чувство богообщения совсем из иной области. Бывает, что Господь утешает душу, дает ей вкусить благодати Святого Духа в полноте, чтобы мы знали и ощущали цель наших внутренних трудов, что, по очищении нас от страстей, это будет неотъемлемым нашим достоянием, и чтобы мы трудились над собою, — «очистим чувствия и узрим» (Пасхальный канон). Но мы должны понимать, что утешение от Господа в Его руке, а в нашей повседневной жизни это чувство богообщения свидетельствуется иным: прежде всего и главным образом тем, что свт. Феофан называет «ревностью о богоугождении», т. е. твердой, прочной, как смерть, решимостью несмотря ни на что, ни на какие внешние обстоятельства, ни на внутренние скорби и мрачности, — быть христианином, быть с Богом и исполнять Его волю; это чувство веры, благоговения, сыновней зависимости от Бога и желание быть с Ним. И это — фундамент, на котором стоит христианская жизнь; это дело благодати, начало богообщения, и о нем нужно иметь попечение, его искать, блюсти, возгревать, и этому служит Таинство Покаяния; если мы этого не чувствуем, то тут есть изъян в духовной жизни.
И еще об одном. Покаяние часто ассоциируется у нас с наказанием от Бога, и человек начинает себя пугать Богом: вечными муками, адом и проч. Но мы должны знать, что этого ни в коем случае нельзя делать. Нельзя себя пугать Богом. Мы сказали уже, что Покаяние — это Таинство любви Божией, в нем мы соприкасаемся с ней, а если не так, то наше покаяние неправильное.
Давайте подумаем. Мы называем Бога — Отцом: но кто такой Отец? (В нормальном порядке вещей: бывают семьи, в которых с этим словом ассоциируется, наоборот, самое ужасное, мучительное и болезненное; но мы говорим о норме жизни.) Отец дает жизнь, он заботится обо всем, он кормит и поит, он воспитывает и образовывает, раскрывает человека, вдохновляет его, радуется за него. И наказывает, конечно, когда нужно; но только это не главное в жизни: наказание ведь не может длиться всегда, оно бывает по необходимости и, выполнив свою роль, прекращается. Это — в порядке человеческой жизни; и если люди — в норме — таковы, если таково человеческое отцовство, то кольми паче Бог? Он ведь наш Небесный Отец: мы обращаемся к Нему: Отче наш, — а вовсе не: Наказатель наш, — не правда ли? И покаяние наше, и самоукорение совершается именно перед Отцом Небесным, не вжав голову в плечи, в ожидании ярости и наказания за всякую мелочь, а с сыновним доверием к нашему Отцу и Спасителю, и, даже можно сказать, Другу, ближе Которого нет. Он, если и наказывает, то с великою любовью и уж в самых крайних случаях, когда не обойтись без этого. И покаяние — это вернуться именно к Этому вот, Такому Богу, а не пугать себя Им.
То правда, что должен быть страх Божий: в любви к Богу нет места фамильярности, развязности, панибратству, вседозволенности; но страх Божий — это не боязнь надзирателя в тюрьме; это — благоговейное сыновнее духовное чувство, осознание того, кто — Он и кто — я. И потом: нам ведь дана заповедь — первая! — любви к Богу; но любви не может быть в приказном порядке, она всегда возникает в ответ на что-то, — и наша любовь к Богу откликается на любовь Бога к нам. Вспомните евангельскую «притчу притч» о блудном сыне: он и попрал любовь отчую, и ушел, и наблудил, но когда он решил вернуться, из соображений, между прочим, не духовных, а из-за голода, как поступил отец его? Он увидел его издалека и сжалился, и побежал, и обнимал, и целовал, и ни слова упрека не сказал, и почтил честью, и в первую одежду одел, и в дом ввел, и пир устроил — и это только слабые человеческие образы Божией любви (см. Лк., гл. 15). И именно она открывается нам в Таинстве Покаяния, а не боязнь наказания. Бояться больше всего нужно того, чтобы не оказаться вне Такого вот Бога, что, собственно, и есть ад и вечные муки.
Итак, вот каково церковное понимание покаяния, запомните это: не как самоистязание, но как положительное религиозное дело, т.е. совместное (от нас — покаяние, от Бога — Таинство любви) восстановление связи с Богом, любящим и милосердным Отцом Небесным. Только так понимая Таинство Покаяния, мы избежим и тех опасностей, о которых мы говорили — формализации, манипуляции покаянием, разочарования в нем и неверного понимания его как внутреннего делания.
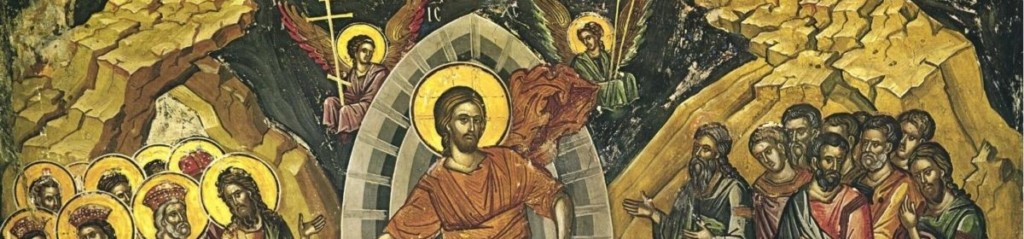

 втомобилях в сторону Тихоновки на сбор чая.
втомобилях в сторону Тихоновки на сбор чая.





































































